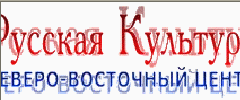|
|
|
|
|
Авторизация
|
|
Поиск по сайту
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

Профессия – космонавт: что это в реальности значит?
Наш собеседник – советский и российский космонавт Владимир Титов, который 30 лет тому назад отправился на земную орбиту, чтобы первым из землян провести в невесомости целый год. Недавно он побывал в Эстонии по приглашению Международного медиа-клуба «Импрессум», который помог провести это интервью.
– Наверное, при помощи аппаратуры из космоса видишь намного больше, чем невооруженным взглядом? И вообще, оттуда видны какие-то детали или только общая картина, как на глобусе?
– Об этом еще Юрия Алексеевича Гагарина спрашивали. Он говорил: вижу облака, океан и так далее. Если же подходить к вопросу с точки зрения наблюдения за землей, мы называем их визуальные наблюдения – конечно же, существует аппаратурное обеспечение. А у человека аппаратурное обеспечение – его глаз. И глаз постепенно к невесомости адаптируется: изменяется геометрия, объем, изменяется способность что-то увидеть.
Космонавты единодушно утверждают: через месяц полета человек видит то, поначалу не видел. Когда-то, еще во время подготовки, геологи рассказывали, что Урал заканчивается там, где начинаются казахские степи, Аральское море. Но вообще-то он распространяется дальше. За год полета я только один раз увидел, что Урал уходит далеко на юг. Было низкое солнце и замечательная видимость. Обычно ты видишь, как Уральский хребет проходит и исчезает, а тут он пошел, пошел по западной границе Аральского моря, там даже есть озера, которые образовались в результате заполнения сельскохозяйственных угодий – и ушел дальше.
Корабль же идет в полете с юго-запада на северо-восток, солнце встает с востока – и оказались такие условия, когда все это было видно. Предельно четкая картина! Но только какой-то миг, я даже не успел схватить фотоаппарат и видеокамеру, чтобы заснять. И сколько раз потом я ни пытался снова это увидеть, ничего у меня и не получилось.
– А какие физические ощущения человек испытывает в открытом космосе? Ему холодно, жарко? И вообще, было страшно, ну, хотя бы первый раз?
– Животный страх космонавтам испытывать нельзя, они же работать не смогут.
– Понятно, что нельзя, но на самом деле страшно?
– Бывают и жутковатые моменты, конечно, куда от этого денешься, среда все-таки абсолютно непригодная для жизни. Солнышко вышло – плюс 140, солнышко зашло – минус 140.
– И сколько времени вы там находитесь за один выход?
– И 4 часа, и 5, и 6, и 7. Даже к 8 часам приближались.
– А что можно так долго там делать? В скафандре ведь особо не подвигаешься.
– Выполняешь задание, работаешь. Иначе зачем туда выходить?
– Разве в этих огромных неуклюжих перчатках можно производить какие-то действия, не стучать какой-нибудь кувалдой, а, допустим, прикручивать какие-то мелкие винтики?
– Вообще-то нельзя, но если надо, то можно. Космонавт – человек, которого готовят к выполнению разных нетрадиционных работ, которые на земле ни один специалист делать не захочет и не будет. А космонавту деваться некуда – у него есть задача, и он ее выполняет. Был у нас выход, когда меняли блок электроники одного телескопа. Телескоп находится под обшивкой, подхода к нему нет – его никогда не планировали ремонтировать, и нет методик ремонта. Но он вышел из строя.
На земле подумали, прислали инструменты, документацию, провели обучающий видеосеанс нашего экипажа. И пришлось нам делать два выхода, чтобы этот телескоп отремонтировать. Сделали один выход – вскрыли обшивку. Опять же, как вскрывали? Ломали, собственно говоря, ножницами разрезали. Вызволили этот блок электроники, который представляет собой цилиндр примерно сантиметров 60 в диаметре, сантиметров 40 толщиной, и масса у него килограммов 60. Вот такая штука – собственно, мозги телескопа.
Потом начали его откручивать, чтобы снять, а он, как вы говорите, на мелких винтиках. И гаечки, которые законтрены проволокой и к тому же поставлены на клей. Три дня потом не мог носки надеть, настолько болели руки. Мало того, когда мы все это открутили и начали открывать последний замок, ключ сломался. Представьте себе, приходите вы домой, вставляете ключ, поворачиваете – и вдруг бородка ломается. Вынимаете ключ – она там внутри, а у вас в руке только стержень, и двери закрыты.
– И что же?
– А то, что снять блок электроники невозможно. Ждали следующий грузовик. Наконец, прислали различные инструменты, которые ломают, режут, сбивают – и пришлось выходить еще раз. Причем этот второй выход выполняли через 10 месяцев после начала полета. Обычно все выходы планируются на первые месяцы, когда космонавт еще сильный физически. Говорили, что через 4-5 месяцев выходить уже нельзя, потому что человек ослаб и работать не может. А мы выходили через 10 месяцев, и выполнили свою работу, и блок этот все-таки сняли, выбросили, поставили новый – телескоп начал работать.
– Вы знали, что летать придется 365 дней?
– Знал.
– А семья?
– И семья знала.
– У первых космонавтов родные не знали.
– Ну, может, потихонечку и знали.
– Как это долгое время проживается психологически? То есть, в какой момент вы перестаете его отсчитывать и когда начинаете считать снова, в ожидании приземления?
– Когда ты находишься в экипаже, в который входят два человека, конечно, считаешь время. Когда много работы – не считаешь, когда мало – считаешь. Приходит летнее время – видим, что начало работ как-то сдвигается, смещается. Мы спрашиваем: «В чем дело? Этот эксперимент не проводим, тот не проводим, у нас свободное время появилось. Чем нам заниматься?». – «Да понимаете, постановщики экспериментов в отпуск ушли». – «Ну и чего? Тогда спускайте нас, мы тоже в отпуск пойдем». Это уже недоработка организационного плана, потому что должны быть на земле люди, которые постоянно поддерживают нашу работу. А потом, туда же миллионы вбуханы, и прекращать проведение серии экспериментов из-за одного специалиста, который ушел в отпуск – это не по-хозяйски.
– Они ушли в отпуск, а вы?
– Мы бучу подняли: ребята, меняйте задачи, ставьте другие эксперименты, что мы здесь, бездельничать будем?
– Результативно? Нашли вам другие эксперименты?
– Ну, с грехом пополам что-то придумали.
– На каком языке вы общались с американскими астронавтами?
– Как-то общались: и они что-то знали по-русски, и мы по-английски. А так как мы приехали в США с целевым назначением, то учили язык, наверное, быстрее. Когда ты изучаешь его в какой-то группе, просто так, и непонятно, когда он тебе понадобится, через год или через три, тогда и отношение к этому делу другое, и темпы освоения другие. Вообще, я немецкий язык изучал, а не английский. Но когда тебе дают толстую стопку документации на английском, да еще с множеством сокращений – хоть стой, хоть падай, но нужно все это перелопатить. Для меня, например, особенно сложные были первые месяцы. Мозг просто отказывался воспринимать эту массу информации. Потом ничего, втянулся.
– Как вы относитесь к своим молодым коллегам? Мелькает иногда мысль, что, мол, в наши годы и небо было голубее, и трава зеленее, и люди были более серьезные, ответственные, словом, другие?
– Никогда! Все нормальные люди. Я люблю ходить в спортзал, в бассейн, и когда позанимаешься, наплаваешься – сидим в сауне, как птички на шестках, вот тогда можно поговорить с молодежью, их новости узнать, бывает, они что-то спрашивают. Мы общаемся с молодыми ребятами, и нам друг с другом интересно.
– Технический прогресс за эти десятилетия ушел далеко вперед, и уже непонятно, вам было труднее или им сейчас?
– Всегда труднее первым. А из первого отряда у нас остались, господи, считанные единицы…
Лариса ГРАНОВСКАЯ